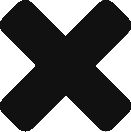ДВЕ КОНЦЕПЦИИ СВОБОДЫ1
Принуждать человека — значит лишать его свободы, но свободы от чего? Почти все моралисты в истории человечества прославляли свободу. Значение этого слова, равно как и некоторых других — счастья и доброты, природы и реальности — столь многослойно, что найдется немного истолкований, которые окажутся для него непригодными. Я не намерен рассматривать ни историю этого многослойного слова, ни тем более две сотни его значений, выявленных историками идей. Я собираюсь рассмотреть только два его значения, которые, будучи центральными, вобрали в себя значительную долю человеческой истории, как прошлой, так, осмелюсь утверждать, и будущей. Первое из этих политических значений свободы я буду (следуя во многом прецеденту) называть “негативным”, и это значение подразумевается в ответе на вопрос: “Какова та область, в рамках которой субъекту — будь то человек или группа людей — разрешено или должно быть разрешено делать то, что он способен делать, или быть тем, кем он способен быть, не подвергаясь вмешательству со стороны других людей?”. Второе значение я буду называть позитивным, и оно подразумевается в ответе на вопрос: “Что или кто служит источником контроля или вмешательства и заставляет человека совершать это действие, а не какое-нибудь другое, или быть таким, а не другим?”. Безусловно, это разные вопросы, хотя ответы на них могут частично совпадать.
Понятие “негативной свободы”
Обычно говорят, что человек свободен в той мере, в какой никто: ни другой человек, ни группа людей — не препятствует его действиям. Политическая свобода в этом смысле и есть та область, в рамках которой человек может действовать, не подвергаясь вмешательству со стороны других. Если другие люди не позволяют мне сделать то, что в противном случае я мог бы сделать, то в этой степени я несвободен; если из-за действий других людей упомянутая область сжимается, уменьшаясь далее известного предела, то обо мне можно сказать, что я нахожусь в состоянии принуждения и, возможно, даже порабощения. Однако слово принуждение не охватывает все случаи, когда мы не способны что-либо сделать. Если я не способен прыгнуть выше десяти футов, или не могу читать из-за слепоты, или тщетно пытаюсь понять наиболее темные места у Гегеля, то было бы странным говорить, что в этой степени я подвергаюсь порабощению или принуждению. Принуждение предполагает намеренное вторжение других людей в область, где в противном случае я мог бы действовать беспрепятственно. Вы только тогда лишены политической свободы, когда другие люди мешают вам достичь какой-либо цели 2. Простая неспособность достичь цели еще не означает отсутствия политической свободы 3. Об этом свидетельствует и современное употребление таких взаимосвязанных выражений как “экономическая свобода” и “экономическое рабство”. Доказывают, порой очень убедительно, что если человек слишком беден и не может позволить себе купить буханку хлеба, совершить путешествие по миру или обратиться за помощью в суд, хотя на все это нет юридического запрета, то он не более свободен, чем когда это запрещено законом. Если бы моя бедность была своего рода болезнью и не позволяла бы мне покупать хлеб, оплачивать путешествия по миру или добиваться слушания моего дела в суде, как хромота не позволяет мне бегать, то было бы неестественно видеть в ней отсутствие свободы, тем более — политической свободы. Только в том случае, если я объясняю свою неспособность приобрести какую-либо вещь тем, что другие люди предприняли определенные меры, и поэтому я, в отличие от них, не имею денег для приобретения данной вещи, только в этом случае я считаю себя жертвой принуждения или порабощения. Другими словами, употребление слова “принуждение” зависит от принятия определенной социально-экономической теории, объясняющей причины моей нищеты и неспособности что-либо делать. Если отсутствие материальных средств вызвано недостатком умственных и физических способностей, то, только приняв указанную теорию, я стану говорить не просто о нищете, а об отсутствии свободы 4. Если к тому же я считаю, что моя нужда обусловлена определенным социальным устройством, которое, на мой взгляд, является несправедливым и нечестным, то я буду говорить об экономическом рабстве или угнетении. “Не природа вещей возмущает нас, а только недобрая воля”, — говорил Руссо. Критерием угнетения служит та роль, которую, по нашему мнению, выполняют другие люди, когда прямо или косвенно, намеренно или ненамеренно препятствуют осуществлению наших желаний. Свобода в этом смысле означает только то, что мне не мешают другие. Чем шире область невмешательства, тем больше моя свобода.
Именно так понимали свободу классики английской политической философии 5. Они расходились во взглядах относительно того, насколько широкой может или должна быть упомянутая область. По их мнению, при существующем положении вещей она не может быть безграничной, ибо ее безграничность повлекла бы за собой то, что все стали бы чинить бесконечные препятствия друг другу, и в результате такой “естественной свободы” возник бы социальный хаос, и даже минимальные потребности людей не были бы удовлетворены, а свобода слабого была бы попрана сильным. Эти философы прекрасно понимали, что человеческие цели и действия никогда сами по себе не придут в гармонию, и (какими бы ни были их официальные доктрины) они ставили выше свободы такие ценности, как справедливость, счастье, культура, безопасность или различные виды равенства, а потому были готовы ограничивать свободу ради этих ценностей или даже ради нее самой. Ибо иначе было бы невозможно создать желательный, с их точки зрения, тип социального объединения. Поэтому, признавали эти мыслители, область свободных действий людей должна быть ограничена законом. Однако в равной мере они допускали — в особенности такие либертарианцы, как Локк и Милль в Англии, Констан и Токвиль во Франции — что должна существовать некоторая минимальная область личной свободы, в которую нельзя вторгаться ни при каких обстоятельствах. Если эта свобода нарушается, то индивидуальная воля загоняется в рамки слишком узкие даже для минимального развития природных человеческих способностей, а без этих способностей люди не только не могли бы добиваться целей, которые они считают благими, правильными или священными, но и были бы не способны просто ставить эти цели перед собой. Отсюда следует, что необходимо провести границу между сферой частной жизни и сферой публичной власти. Где ее провести — об этом можно спорить, а, по сути, и заключать соглашения. Люди во многих отношениях зависят друг от друга, и никакая человеческая деятельность не может быть настолько частной, чтобы никак и никогда не затрагивать жизнь других людей. “Свобода щуки — это смерть пескаря”; свобода одних зависит от ограничений, накладываемых на других. “Свобода оксфордского профессора, — как кто-то может добавить, — это нечто иное по сравнению со свободой египетского крестьянина”.
Эта идея черпает свою силу в чем-то одновременно истинном и важном, хотя сама фраза рассчитана на дешевый политический эффект. Несомненно, предоставлять политические права и гарантию невмешательства со стороны государства людям, которые полуголы, неграмотны, голодны и больны, значит издеваться над их положением; прежде всего этим людям нужна медицинская помощь и образование и только потом они смогут осознать свою возросшую свободу и сумеют ею воспользоваться. Чем является свобода для тех, кто не может ею пользоваться? Если условия не позволяют людям пользоваться свободой, то в чем ее ценность? Прежде следует дать людям наиболее важное; как говорил радикальный русский писатель девятнадцатого века, иногда сапоги важнее произведений Шекспира; индивидуальная свобода — не главная потребность человека. Свобода — это не просто отсутствие какого бы то ни было принуждения; подобная трактовка слишком раздувает значение этого слова, и тогда оно может означать или слишком много, или слишком мало. Египетский крестьянин прежде всего и больше всего нуждается в одежде и медицинской помощи, а не в личной свободе, но та минимальная свобода, которая нужна ему сегодня, и то расширение свободы, которое понадобится ему завтра, — это не какая-то особая для него разновидность свободы, а свобода, тождественная свободе профессоров, художников и миллионеров.
Думаю, муки совести у западных либералов вызваны не тем, что люди стремятся к разной свободе в зависимости от их социально-экономического положения, а тем, что меньшинство, обладающее свободой, обрело ее, эксплуатируя большинство или, по крайней мере, стараясь не замечать, что огромное большинство людей лишено свободы. Либералы имеют все основания считать, что если индивидуальная свобода составляет для людей высшую цель, то недопустимо одним людям лишать свободы других, а тем более — пользоваться свободой за счет других. Равенство свободы; требование не относиться к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они относились к тебе; исполнение долга перед теми, благодаря кому стали возможны твои свобода, процветание и воспитание; справедливость в ее наиболее простом и универсальном значении — таковы основы либеральной морали. Свобода — не единственная цель людей. Я мог бы, вместе с русским критиком Белинским, сказать, что если другие люди лишены свободы, если мои братья должны жить в нищете, грязи и неволе, то я не хочу свободы и для себя, я отвергаю ее обеими руками и безоговорочно выбираю участь моих братьев. Но мы ничего не выиграем, если будем смешивать понятия. Пусть, не желая терпеть неравенство и широко распространившуюся нищету, я готов пожертвовать частью или даже всей своей свободой; я могу пойти на эту жертву добровольно, но то, от чего я отказываюсь ради справедливости, равенства и любви к своим товарищам, — это свобода. У меня были бы все основания мучиться сознанием вины, если бы при известных обстоятельствах я оказался не готовым принести эту жертву. Однако жертва не ведет к увеличению того, чем было пожертвовано: роста свободы не происходит, как бы ни были велики моральная потребность в жертве и компенсация за нее. Все есть то, что есть: свобода есть свобода; она не может быть равенством, честностью, справедливостью, культурой, человеческим счастьем или спокойной совестью. Если моя свобода, свобода моего класса или народа связана со страданиями какого-то количества людей, то система, где возможны такие страдания, несправедлива и аморальна. Но если я урезаю свою свободу или отказываюсь от нее полностью, чтобы испытывать меньше позора из-за существующего неравенства, и при этом индивидуальная свобода других, по существу, не возрастает, то происходит потеря свободы в ее абсолютном выражении. Это может быть возмещено ростом справедливости, счастья или спокойствия, но утрата свободы налицо, и было бы простым смешением ценностей утверждать, что хотя моя “либеральная” индивидуальная свобода выброшена за борт, некоторый другой вид свободы — “социальной” или “экономической” — возрос. Впрочем, это не отменяет того, что свободу одних временами нужно ограничивать, чтобы обеспечить свободу других. Руководствуясь каким принципом следует это делать? Если свобода представляет собой священную, неприкосновенную ценность, то такого принципа просто не существует. Одна из противоположных норм должна, по крайней мере, на практике, уступить: не всегда, правда, по соображениям, которые можно четко сформулировать, а тем более — обобщить в универсальных правилах и максимах. И тем не менее на практике компромисс должен быть достигнут.
Для философов, придерживающихся оптимистического взгляда на человеческую природу и верящих в возможность гармонизации человеческих интересов (в их число входят Локк, Адам Смит и, возможно, Милль), социальная гармония и прогресс не отменяют существование довольно большой сферы частной жизни, границы которой не могут быть нарушены ни государством, ни каким-либо другим органом власти. Гоббс и его сторонники, в особенности консервативные и реакционные мыслители, полагали, что нужно помешать людям уничтожать друг друга и превращать социальную жизнь в джунгли и пустыню; они предлагали предпринять меры предосторожности для сдерживания людей, а потому считали необходимым увеличить область централизованного контроля и, соответственно, уменьшить область, контролируемую индивидом. Однако и те и другие были согласны, что некоторая сфера человеческого существования не должна подвергаться социальному контролю. Вторжение в эту область, какой бы маленькой она ни была, есть деспотизм. Самый яркий защитник свободы и сферы частной жизни Бенжамен Констан, никогда не забывавший о якобинской диктатуре, призывал оградить от деспотического посягательства, по крайней мере, свободу веры, убеждений, самовыражения и собственности. Джефферсон, Берк, Пейн и Милль составили разные списки индивидуальных свобод, но сходным образом обосновывали необходимость держать власть на расстоянии. Мы должны сохранить хотя бы минимальную область личной свободы, если не хотим “отречься от нашей природы”. Мы не можем быть абсолютно свободными и должны отказаться от части нашей свободы, чтобы сохранить оставшуюся часть. Полное подчинение чужой воле означает самоуничтожение. Какой же должна быть тогда минимальная свобода? Это та свобода, от которой человек не может отказаться, не идя против существа своей человеческой природы. Какова ее сущность? Какие нормы вытекают из нее? Эти вопросы были и, видимо, всегда будут предметом непрекращающегося спора. Но какой бы принцип ни очерчивал область невмешательства, будь то естественное право или права человека, принцип полезности или постулат категорического императива, неприкосновенность общественного договора или любое другое понятие, с помощью которого люди разъясняют и обосновывают свои убеждения, предполагаемая здесь свобода является свободой от чего-либо; она означает запрет вторжения далее некоторой перемещаемой, но всегда четко осознаваемой границы. “Только такая свобода и заслуживает названия свободы, когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом”, — говорил один из самых известных поборников свободы. Если это так, то есть ли какое-либо оправдание принуждению? Милль не сомневался, что есть. Все индивиды по справедливости имеют равное право на минимальную свободу, поэтому каждого из них нужно сдерживать, используя при необходимости силу, чтобы он не отнял свободу у другого индивида. По существу, вся функция закона и состоит в предотвращении именно таких столкновений: роль государства тем самым сводится к тому, что Лассаль пренебрежительно назвал функцией ночного сторожа или регулировщика уличного движения.
Почему защита индивидуальной свободы столь священна для Милля? В своем известном трактате он заявляет, что до тех пор, пока людям не будет разрешено вести тот образ жизни, какой они хотят и какой “касается только их самих”, цивилизация не сможет развиваться; если не будет свободного обмена идеями, мы не сможем найти истину; не будет возможностей для развития самобытности, оригинальности, гениальности, умственной энергии и нравственного мужества. Общество будет задавлено тяжестью “массовой заурядности”. Все разнообразное и богатое содержанием исчезнет под гнетом обычая и постоянной склонности людей к послушанию, которое рождает только “истощенных и бесплодных”, “ограниченных и изуродованных” индивидов с “зачахшими способностями”. “Языческое превознесение человека столь же достойно уважения, как и христианское самоотвержение”. “Вред от ошибок, совершаемых человеком вопреки совету или предупреждению, значительно перевешивается злом, которое возникает, когда другим позволено принуждать человека делать то, что они считают для него благом”. Защита свободы имеет “негативную” цель — предотвратить вмешательство. Угрожать человеку гонениями, если он не согласится жить так, чтобы другие выбирали за него цели; закрыть перед ним все двери, кроме одной, значит противоречить той истине, что человек — это существо, самостоятельно проживающее свою жизнь. И здесь не важно, насколько хороша перспектива, открываемая той единственной дверью, и насколько благородны мотивы тех, кто устанавливает ограничения. Именно так со времени Эразма (возможно, кто-то сказал бы — со времени Оккама) и по сей день понимают свободу либералы. Все требования гражданских свобод и индивидуальных прав, все протесты против эксплуатации и унижения, против посягательств со стороны государственной власти и массового гипноза, рождаемого обычаем или организованной пропагандой, проистекают из этой индивидуалистичной и вызывающей немало споров концепции человека.
Три момента следует отметить в связи с этой позицией. Во-первых, Милль смешивает два разных представления. Согласно первому из них, любое принуждение само по себе есть зло, ибо оно препятствует осуществлению человеческих желаний, но его можно использовать для предотвращения других, еще больших, зол. Невмешательство же, как нечто противоположное принуждению, само по себе есть благо, хотя и не единственное. Это представление выражает “негативную” концепцию свободы в ее классическом варианте. Согласно другому представлению, людям следует стремиться открывать истину и воспитывать в себе определенный, одобряемый Миллем, тип характера, сочетающий такие черты, как критичность, самобытность, богатое воображение, независимость, нежелание подчиняться, достигающее самых эксцентричных проявлений, и т. д. Открыть истину и воспитать такой характер можно только в условиях свободы. Оба эти представления являются либеральными, но они не тождественны, и связь между ними в лучшем случае эмпирическая. Никто не стал бы утверждать, что истина и свобода самовыражения могут процветать там, где мысль задавлена догмой. Но исторические факты свидетельствуют скорее о том (именно это и доказывал Джеймс Стефан, предпринявший впечатляющую атаку на Милля в своей книге “Свобода, Равенство, Братство” (‘Liberty, Equality, Fraternity‘), что честность, любовь к истине и пламенный индивидуализм процветают в сообществах со строгой и военной дисциплиной, как например, в общинах пуритан-кальвинистов в Шотландии и Новой Англии, уж во всяком случае не менее часто, чем в более терпимых и нейтральных обществах. Это разрушает аргумент Милля в пользу свободы как необходимого условия развития человеческой одаренности. Если эти две цели несовместимы друг с другом, то Милль оказывается перед лицом мучительной дилеммы еще до того, как возникнут трудности, вызванные несовместимостью его доктрины с последовательным утилитаризмом, даже гуманистически истолкованным самим Миллем 6.
Во-вторых, эта доктрина возникла сравнительно недавно. Античный мир едва ли знал индивидуальную свободу как осознанный политический идеал (в отличие от его действительного осуществления). Уже Кондорсе отмечал, что понятие индивидуальных прав отсутствовало в правовых представлениях римлян и греков; в равной мере это верно и в отношении иудейской, китайской и всех последующих древних цивилизаций 7. Торжество этого идеала было скорее исключением, а не правилом даже в недавней истории Запада. Свобода в таком ее истолковании нечасто становилась лозунгом, сплачивающим большие массы людей. Желание не подвергаться посягательствам и быть предоставленным самому себе свидетельствует скорее о том, что цивилизация достигла высокой ступени развития как в лице отдельных индивидов, так и общества в целом. Трактовка сферы частной жизни и личных отношений как чего-то священного в самом себе проистекает из концепции свободы, которая, если учесть ее религиозные корни, получила законченное выражение лишь с наступлением эпохи Возрождения или Реформации 8. Однако упадок этой свободы означал бы смерть цивилизации и всего нравственного мировоззрения.
Третья особенность этого понятия свободы наиболее важна. Она состоит в том, что свобода в таком ее понимании совместима с некоторыми формами самодержавия или, во всяком случае, совместима с отсутствием самоуправления. Свобода в этом смысле имеет принципиальную связь со сферой управления, а не с его источником. На деле, демократия может лишить гражданина огромного числа свобод, которыми он пользуется при других формах правления, и, кроме того, можно легко представить себе либерально настроенного деспота, который предоставляет своим подданным широкую личную свободу. Оставляя своим гражданам большую область свободы, деспот, вместе с тем, может быть несправедливым, поощрять крайние формы неравенства, мало заботиться о порядке, добродетели и развитии знания, но если учесть, что он не ограничивает свободу граждан или, во всяком случае, делает это в меньшей степени, чем правители при многих других режимах, он удовлетворяет определению Милля 9. Свобода в этом смысле не связана, по крайней мере логически, с демократией и самоуправлением. В общем, самоуправление может обеспечивать лучшие гарантии соблюдения гражданских свобод, чем другие режимы, и поэтому в его поддержку выступали многие либертарианцы. Но между индивидуальной свободой и демократическим правлением нет необходимой связи. Ответ на вопрос “Кто управляет мной?” логически не связан с вопросом “Как сильно правительство ограничивает меня?”. Именно это, в конечном счете, и обнаруживает глубокое различие между понятиями негативной и позитивной свободы 10. Позитивная трактовка свободы вступает в свои права, когда мы пытаемся ответить на вопросы “Кто управляет мною?” и “Кто должен сказать, что мне следует или не следует делать и кем мне следует или не следует быть?”, а не когда мы задаемся вопросом “Что я свободен делать и кем я свободен быть?”, поэтому связь между демократией и индивидуальной свободой значительно более слабая, чем это полагают многие защитники той и другой. Желание управлять собой или, по крайней мере, участвовать в процессе управления своей жизнью может быть столь же глубоким, как и желание иметь свободную область действия, а исторически, возможно, и более древним. Но в этих случаях мы желаем не одного и того же. На деле, предметы желания здесь совершенно разные, и именно это обстоятельство привело к великому столкновению идеологий, подчинивших своей власти наш мир. “Позитивная” концепция свободы предполагает не свободу “от”, а свободу “для” — свободу вести какой-то предписанный образ жизни, поэтому для сторонников “негативной” свободы она порой оказывается лишь лицемерной маской жестокой тирании.
II
Понятие позитивной свободы
“Позитивное” значение слова “свобода” проистекает из желания индивида быть хозяином своей собственной жизни. Я хочу, чтобы моя жизнь и принимаемые мной решения зависели от меня, а не от действия каких-либо внешних сил. Я хочу быть орудием своего собственного волеизъявления, а не волеизъявления других людей. Я хочу быть субъектом, а не объектом; хочу, чтобы мной двигали мои собственные мотивы и осознанно поставленные цели, а не причины, воздействующие на меня извне. Я хочу быть кем-то: хочу быть деятелем, принимающим решения, и не хочу быть тем, за кого решают другие; я хочу сам собой руководить и не хочу подчиняться воздействию внешней природы или других людей, как если бы я был вещью, животным или рабом, не способным к человеческой деятельности: не способным ставить перед собой цели, намечать линии поведения и осуществлять их. Именно это я имею в виду, по крайней мере отчасти, когда говорю, что я рациональное существо и мой разум отличает меня как человека от всего остального мира. Прежде всего я хочу воспринимать себя мыслящим, волевым, активным существом, несущим ответственность за сделанный выбор и способным оправдать его ссылкой на свои собственные убеждения и цели. Я чувствую себя свободным в той мере, в какой осознаю, что я таков, и порабощенным — в той мере, в какой я вынужден признать, что я не таков.
Свобода быть хозяином своей собственной жизни, и свобода от препятствий, чинимых другими людьми моему выбору, на первый взгляд, могут показаться не столь уж логически оторванными друг от друга — не более, чем утвердительный и отрицательный способ выражения одной и той же мысли. Однако “позитивное” и “негативное” понятия свободы исторически развивались в расходящихся направлениях и не всегда логически правильными шагами, пока в конце концов не пришли в прямое столкновение друг с другом.
При объяснении этой ситуации порой ссылаются на ту силу, которую приобрела совершенно безобидная вначале метафора владения собой. “Я свой собственный хозяин”, “я никому не раб”, но разве я не могу быть (как склонны рассуждать платоники и гегельянцы) рабом природы? Или рабом своих собственных неукротимых страстей? Разве это не разные виды одного и того же родового понятия “раб” — одни политические и правовые, другие — нравственные и духовные? Разве у людей нет опыта освобождения себя от духовного рабства и от рабской покорности природе, и разве в ходе такого освобождения люди не открывали в себе, с одной стороны, некоторое главенствующее Я, а с другой стороны, нечто такое, что подчиняется этому Я. Это главенствующее Я затем различными способами отождествляют с разумом, с “высшей природой” человека, с его “реальным”, “идеальным” или “автономным” Я, с тем Я, которое стремится к вещам, дающим длительное удовлетворение, с “наилучшим” Я, а затем это Я противопоставляют иррациональным влечениям, неконтролируемым желаниям, “низкой” природе человека, его погоне за сиюминутными удовольствиями, его “эмпирическому” или “гетерономному” Я, которое поддается каждому порыву желания и страсти и нуждается в строгой дисциплине, чтобы встать в полный рост своей “реальной” природы. В настоящее время эти два Я разделены, так сказать, еще большей пропастью: реальное Я воспринимается как нечто более широкое, чем сам индивид (в обычном понимании этого слова), как некое социальное “целое” — будь то племя, раса, церковь, государство или великое сообщество всех живущих, умерших и еще не рожденных, в которое индивид включается в качестве элемента или аспекта. Затем это существо отождествляют с “истинным” Я, и оно, навязывая единую коллективную или “органическую” волю своим непокорным членам, достигает собственной свободы, которая, таким образом, оказывается и “высшей” свободой его членов. Опасность использования различных органических метафор, оправдывающих принуждение тем, что оно поднимает людей на “более высокий” уровень свободы, отмечалась неоднократно. Таким оборотам речи придает убедительность то, что мы считаем возможным, а иногда и оправданным, принуждать людей ради достижения некоторой цели (скажем, ради справедливости и общественного процветания), к которой они стремились бы, будь более просвещенными, но не делают этого в силу своей слепоты, невежественности и порочности. Благодаря этому мне легче считать, что я принуждаю других людей ради них самих, ради их собственных, а не моих интересов. Затем я заявляю, что лучше их самих знаю их действительные нужды. В лучшем случае отсюда следует, что они не стали бы сопротивляться моему принуждению, будь они столь же рациональны и мудры, как я, и понимай они столь же хорошо свои интересы, как понимаю их я. Но я могу утверждать и значительно большее. Я могу заявить, что в действительности они стремятся к тому, чему оказывают сознательное сопротивление из-за своего невежества, ибо внутри их заключена некая скрытая сущность — их непроявленная рациональная воля или “истинная” цель, и эта сущность, хотя ее опровергает все, что они чувствуют, делают и о чем открыто говорят, является их “настоящим” Я, о котором их бедное эмпирическое Я, существующее в пространстве и времени, может ничего не знать или знать очень мало. Именно этот внутренний дух и есть то единственное Я, которое заслуживает, чтобы его желания были приняты во внимание 11. Заняв такую позицию, я могу игнорировать реальные желания людей и сообществ, могу запугивать, притеснять, истязать их во имя и от лица их “подлинных” Я в непоколебимой уверенности, что какова бы ни была истинная цель человека (счастье, исполнение долга, мудрость, справедливое общество, самореализация), она тождественна его свободе — свободному выбору его “истинного”, хотя и часто отодвигаемого на второй план и не проявляющегося, Я.
Этот парадокс разоблачали не раз. Одно дело говорить, что я знаю, в чем состоит благо для Х (хотя сам он может этого и не знать), и можно даже игнорировать желания Х ради этого блага и ради него самого, но совсем другое дело говорить, что ео ipso он выбрал это благо, по существу неосознанно, — выбрал не как человек из повседневной жизни, а как некое рациональное Я, о котором его эмпирическое Я может и не знать, выбрал как некое “подлинное” Я, которое способно осознать свое благо и не может не выбрать его, когда оно установлено. Эта чудовищная персонификация, когда то, что Х выбрал бы, будь он тем, кем он не является, или, по крайней мере, еще не стал, приравнивается к тому, чего Х действительно добивается и что действительно выбирает, образует сердцевину всех политических теорий самореализации. Одно дело говорить, что меня можно заставить ради моего же собственного блага, которого я не понимаю из-за своей слепоты; иногда это оказывается полезным для меня и действительно увеличивает мою свободу. Но совсем другое дело говорить, что если это мое благо, то меня, по существу, и не принуждают, поскольку мне — знаю я это или нет — следует желать его. Я свободен (или “подлинно” свободен), даже если мое бедное земное тело и мое глупое сознание решительно отвергают это благо и безрассудно сопротивляются тем, кто старается, пусть из добрых побуждений, навязать его мне.
Это магическое превращение (или ловкость рук, за которую Уильям Джеймс совершенно справедливо высмеивал гегельянцев), безусловно, можно с такой же легкостью проделать и с “негативным” понятием свободы. В этом случае Я, которому не должно строить препятствия, из индивида с его реальными желаниями и нуждами в их обычном понимании сразу вырастает в некоего “подлинного” человека, отождествляемого со стремлением к идеальной цели, о которой его эмпирическое Я даже и не мечтало. По аналогии с Я, свободным в позитивном смысле, этот “подлинный” человек мгновенно раздувается в некую сверхличностную сущность: государство, класс, нацию или даже ход истории, — которые воспринимаются как более “реальные” носители человеческих качеств, чем эмпирическое Я. Однако, с точки зрения истории, теории и практики “позитивная” концепция свободы как самовладения, с ее предпосылкой о внутренней раздвоенности человека, легче осуществляет расщепление личности на две части: на трансцендентного господина и эмпирический пучок желаний и страстей, который нужно держать в строгой узде. Именно это обстоятельство и сыграло главную роль. Это доказывает (если, конечно, требуется доказательство столь очевидной истины), что концепция свободы непосредственно вытекает из представлений о том, что определяет личность человека, его Я. С определением человека и свободы можно проделать множество манипуляций, чтобы получить то значение, которое желательно манипулятору. Недавняя история со всей очевидностью показала, что этот вопрос отнюдь не является чисто академическим.
Последствия различения двух Я станут еще более очевидными, если рассмотреть, в каких двух основных исторических формах проявлялось желание быть управляемым своим “подлинным” Я. Первая форма — это самоотречение ради достижения независимости, а вторая — самореализация или полное отождествление себя с некоторым конкретным принципом или идеалом ради достижения той же цели.
<…>
VII
Свобода и суверенность
Французская революция, во всяком случае в ее якобинской форме, подобно всем великим революциям, была именно таким всплеском жажды позитивной свободы, охватившей большое число французов, которые ощутили себя освобожденной нацией, хотя для многих из них она означала жесткое ограничение индивидуальных свобод. Руссо торжествующе заявлял, что законы свободы могут оказаться более жестокими, чем ярмо тирании. Тирания — служанка господ. Закон не может быть тираном. Когда Руссо говорит о свободе, он имеет в виду не “негативную” свободу индивида не подвергаться вмешательству в рамках определенной области; он имеет в виду то, что все без исключения полноправные члены общества участвуют в осуществлении государственной власти, которая может вмешиваться в любой аспект жизни каждого гражданина. Либералы первой половины девятнадцатого века правильно предвидели, что свобода в “позитивном” смысле может легко подорвать многие из “негативных” свобод, которые они считали неприкосновенными. Они говорили, что суверенность народа способна легко уничтожить суверенность индивида. Милль терпеливо и неопровержимо доказывал, что правление народа — это не обязательно свобода. Ибо те кто правит, необязательно те же люди, которыми правят, поэтому демократическое самоуправление — это режим, при котором не каждый управляет собой, а в лучшем случае каждым управляют остальные. Милль и его ученики говорили о тирании большинства и тирании “преобладающего настроения или мнения” и не видели большой разницы между этими видами тирании и любым другим, посягающим на свободу человеческой деятельности внутри неприкосновенных границ частной жизни.
Никто не осознавал конфликта между двумя видами свободы так хорошо и не выразил его так четко, как Бенжамен Констан. Он отмечал, что когда неограниченная власть, обычно называемая суверенитетом, в результате успешного восстания переходит из одних рук в другие, это не увеличивает свободы, а лишь перекладывает бремя рабства на другие плечи. Он вполне резонно задавал вопрос, почему человека должно заботить, что именно подавляет его — народное правительство, монарх или деспотические законы. Констан прекрасно осознавал, что для сторонников “негативной” индивидуальной свободы основная проблема заключается не в том, у кого находится власть, а в том, как много этой власти сосредоточено в одних руках. По его мнению, неограниченная власть в каких угодно руках рано или поздно приведет к уничтожению кого-либо. Обычно люди протестуют против деспотизма тех или иных правителей, но реальная причина тирании, согласно Констану, заключена в простой концентрации власти, при каких бы обстоятельствах она ни происходила, поскольку свободе угрожает само существование абсолютной власти как таковой. “Это не рука является несправедливой, — писал он, —а орудие слишком тяжело — некоторые ноши слишком тяжелы для человеческой руки”. Демократия, сумевшая одержать верх над олигархией, привилегированным индивидом или группой индивидов, может в дальнейшем подавлять людей столь же нещадно, как и предшествовавшие ей правители. В работе, посвященной сравнению современной свободы и свободы древних, Констан отмечал, что равное для всех право угнетать — или вмешиваться — не эквивалентно свободе. Даже единодушный отказ от свободы не сохраняет ее каким-то чудесным образом — на том только основании, что было дано согласие и согласие было общим. Если я согласен терпеть гнет и с полным безразличием или иронией смотрю на свое положение, то разве я менее угнетен? Если я сам продаю себя в рабство, то разве я в меньшей степени раб? Если я совершаю самоубийство, то разве я в меньшей степени мертв — на том только основании, что я покончил с жизнью добровольно? “Правление народа — это неупорядоченная тирания; монархия же — более эффективный централизованный деспотизм”. Констан видел в Руссо самого опасного врага индивидуальной свободы, ибо тот объявил, что “отдавая себя всем, я не отдаю себя никому”. Даже если суверен — это “каждый” из нас, для Констана было не понятно, почему этот суверен не может при желании угнетать одного из “тех”, кто составляет его неделимое Я. Конечно, для меня может быть предпочтительней, чтобы свободы были отняты у меня собранием, семьей или классом, в которых я составляю меньшинство. Быть может, в этом случае мне удастся убедить других сделать для меня то, на что я, с моей точки зрения, имею право. Однако, лишаясь свободы от руки членов своей семьи, друзей или сограждан, я все равно в полной мере лишаюсь ее. Гоббс, по крайней мере, был более откровенным; он не пытался представить дело так, будто суверен не порабощает. Он оправдывал это рабство, но во всяком случае не имел бесстыдства называть его свободой.
На протяжении всего девятнадцатого столетия либеральные мыслители не уставали доказывать, что если свобода означает ограничение возможностей, которыми располагают другие люди, чтобы заставить меня делать то, чего я не хочу или могу не хотеть, то каким бы ни был идеал, ради которого меня принуждают, я являюсь несвободным, и поэтому доктрина абсолютного суверенитета по своей сути носит тиранический характер. Для сохранения нашей свободы недостаточно провозгласить, что ее нельзя нарушить, если только это нарушение не будет санкционировано тем или иным самодержавным правителем, народным собранием, королем в парламенте, судьями, некоторым союзом властей или законами, поскольку и законы могут быть деспотичными. Для этого нам необходимо создать общество, признающее область свободы, границы которой никому не дано нарушать. Нормы, устанавливающие эти границы, могут иметь разные названия и характер: их можно называть правами человека, Словом Господним, естественным правом, соображениями полезности или “неизменными интересами человека”. Я могу считать их истинными априорно или могу провозглашать их своей высшей целью или высшей целью моего общества и культуры. Общим для этих норм и заповедей является то, что они получили столь широкое признание и столь глубоко укоренились в действительной природе людей в ходе исторического развития общества, что к настоящему моменту они составляют существенную часть нашего представления о человеке. Искренняя вера в незыблемость некоторого минимума индивидуальной свободы требует бескомпромиссной позиции в этом вопросе. Сейчас уже ясно, как мало надежд оставляет правление большинства; демократия, как таковая, не имеет логической связи с признанием свободы, и порой, стремясь сохранить верность собственным принципам, она оказывалась неспособной защитить свободу. Как известно, многим правительствам не составило большого труда заставить своих подданных выражать волю, желательную для данного правительства. “Триумф деспотизма состоит в том, чтобы заставить рабов объявить себя свободными”. Сила здесь может и не понадобиться; рабы совершенно искренне могут заявлять о своей свободе, оставаясь при этом рабами. Возможно, для либералов главное значение политических — или “позитивных” прав, как, например, права участвовать в государственном управлении, — состоит в том, что эти права позволяют защитить высшую для либералов ценность — индивидуальную “негативную” свободу.
Но если демократии могут, не переставая быть демократиями, подавлять свободу, по крайней мере, в либеральном значении этого слова, то что сделает общество по-настоящему свободным? Для Констана, Милля, Токвиля и всей либеральной традиции, к которой они принадлежали, общество не свободно, пока управление в нем не осуществляется на основе, как минимум, следующих двух взаимосвязанных принципов. Во-первых, абсолютными следует считать только права людей, власть же таковой не является, а потому, какая бы власть ни стояла над людьми, они имеют полное право отказаться вести себя не достойным человека образом. Во-вторых, должна существовать область, в границах которой люди неприкосновенны, причем эти границы устанавливаются не произвольным образом, а в соответствии с нормами, получившими столь широкое и проверенное временем признание, что их соблюдения требуют наши представления о нормальном человеке и о том, что значит действовать неразумным или недостойным человека образом. Например, нелепо считать, что суд или верховный орган власти мог бы отменить эти нормы, прибегнув к некоторой формальной процедуре. Определяя человека как нормального, я отчасти имею в виду и то, что он не мог бы с легкостью нарушить эти нормы, не испытывая при этом чувства отвращения. Именно такие нормы нарушаются, когда человека без суда объявляют виновным или наказывают по закону, не имеющему обратной силы; когда детям приказывают доносить на своих родителей, друзьям — предавать друг друга, а солдатам — прибегать к варварским методам ведения войны; когда людей пытают и убивают, а меньшинства уничтожают только потому, что они вызывают раздражение у большинства или у тирана. Подобные действия, объявляемые сувереном законными, вызывают ужас даже в наши дни, и это объясняется тем, что независимо от существующих законов для нас имеют абсолютную моральную силу барьеры, не позволяющие навязывать свою волю другому человеку. Свобода общества, класса или группы, истолкованная в негативном смысле, измеряется прочностью этих барьеров, а также количеством и важностью путей, которые они оставляют открытыми для своих членов, если не для всех, то во всяком случае для огромного их большинства 12.
Это прямо противостоит целям тех, кто верит в свободу в “позитивном” смысле самоуправления. Первые хотят обуздать власть, вторые — получить ее в собственные руки. Это кардинальный вопрос. Здесь не просто две разные интерпретации одного понятия, а два в корне различных и непримиримых представления о целях жизни. Это нужно хорошо осознавать, даже если на практике часто приходится искать для них компромисс. Каждая из этих позиций выдвигает абсолютные требования, которые нельзя удовлетворить полностью. Но в социальном и моральном плане было бы полным непониманием не признавать, что каждая их этих позиций стремится претворить в жизнь высшую ценность, которая и с исторической, и с моральной точки зрения достойна быть причисленной к важнейшим интересам человечества.
VIII
Один и многие
Есть одно убеждение, которое более всех остальных ответственно за массовые человеческие жертвы, принесенные на алтарь великих исторических идеалов: справедливости, прогресса, счастья будущих поколений, священной миссии освобождения народа, расы или класса и даже самой свободы, когда она требует пожертвовать отдельными людьми ради свободы общества. Согласно этому убеждению, где-то — в прошлом или будущем, в Божественном Откровении или в голове отдельного мыслителя, в достижениях науки и истории или в бесхитростном сердце неиспорченного доброго человека — существует окончательное решение. Эту древнюю веру питает убеждение в том, что все позитивные ценности людей в конечном счете обязательно совместимы друг с другом и, возможно, даже следуют друг из друга. “Природа словно связывает истину, счастье и добродетель неразрывной цепью”, — говорил один из лучших людей, когда-либо живших на земле, и в сходных выражениях он высказывался о свободе, равенстве и справедливости 13. Но верно ли это? Уже стало банальным считать, что политическое равенство, эффективная общественная организация и социальная справедливость, если и совместимы, то лишь с небольшой крупицей индивидуальной свободы, но никак не с неограниченным laissez–faire; справедливость, благородство, верность в публичных и частных делах, запросы человеческого гения и нужды общества могут резко противоречить друг другу. Отсюда недалеко и до обобщения, что отнюдь не все блага совместимы друг с другом, а менее всего совместимы идеалы человечества. Нам могут возразить, что где-то и как-то эти ценности должны существовать вместе, ибо в противном случае Вселенная не может быть Космосом, не может быть гармонией; в противном случае конфликт ценностей составляет внутренний, неустранимый элемент человеческой жизни. Если осуществление одних наших идеалов может, в принципе, сделать невозможным осуществление других, то это означает, что понятие полной самореализации человека есть формальное противоречие, метафизическая химера. Для всех рационалистов-метафизиков от Платона до последних учеников Гегеля и Маркса отказ от понятия окончательной гармонии, дающей разгадку всем тайнам и примиряющей все противоречия, означал грубый эмпиризм, отступление перед жесткостью фактов, недопустимое поражение разума перед реальностью вещей, неспособность объяснить, оправдать, свести все к системе, что “разум” с возмущением отвергает. Но поскольку нам не дана априорная гарантия того, что возможна полная гармония истинных ценностей, достижимая, видимо, в некоторой идеальной сфере и недоступная нам в нашем конечном состоянии, мы должны полагаться на обычные средства эмпирического наблюдения и обычное человеческое познание. А они, разумеется, не дают нам оснований утверждать (или даже понимать смысл утверждения), что все блага совместимы друг с другом, как совместимы в силу тех же причин и все дурные вещи. В мире, с которым мы сталкиваемся в нашем повседневном опыте, мы должны выбирать между одинаково важными целями и одинаково настоятельными требованиями, и, достигая одних целей, мы неизбежно жертвуем другими. Именно поэтому люди придают столь огромную ценность свободе выбора: будь они уверены, что на земле достижимо некоторое совершенное состояние, когда цели людей не будут противоречить друг другу, то для них исчезла бы необходимость мучительного выбора, а вместе с ней и кардинальная важность свободы выбора. Любой способ приблизить это совершенное состояние был бы тогда полностью оправдан, и не важно, сколько свободы пришлось бы принести в жертву ради приближения этого состояния. Не сомневаюсь, что именно такая догматичная вера ответственна за глубокую, безмятежную, непоколебимую убежденность самых безжалостных тиранов и гонителей в истории человечества в том, что совершаемое ими полностью оправдывается их целью. Я не призываю осудить идеал самосовершенствования, как таковой, — не важно, говорим мы об отдельных людях, или о народах, религиях и классах, — и не утверждаю, что риторика, к которой прибегали в его защиту, всегда была мошенническим способом ввести в заблуждение и неизменно свидетельствовала о нравственной и интеллектуальной порочности. На самом деле, я старался показать, что понятие свободы в ее “позитивном” значении образует сердцевину всех лозунгов национального и общественного самоуправления, вдохновлявших наиболее мощные движения современности в их борьбе за справедливость; не признавать этого — значит не понимать самые важные факты и идеи нашего времени. Однако в равной мере я считаю безусловно ошибочной веру в принципиальную возможность единой формулы, позволяющей привести в гармонию все разнообразные цепи людей. Эти цели очень различны и не все из них можно, в принципе, примирить друг с другом, поэтому возможность конфликта, а, стало быть, и трагедии, никогда полностью не устранима из человеческой жизни, как личной, так и общественной. Необходимость выбирать между абсолютными требованиями служит, таким образом, неизбежным признаком человеческих условий существования. Это придает ценность свободе, которая, как считал Актон, есть цель-в-себе, а не временная потребность, вырастающая из наших нечетких представлений и неразумной, неупорядоченной жизни; свобода — это не затруднение, преодолеваемое в будущем с помощью какой-либо панацеи.
Я не хочу сказать, что индивидуальная свобода в наиболее либеральных обществах служит единственным или главным критерием выбора. Мы заставляем детей получать образование и запрещаем публичные казни. Это, конечно, ограничивает свободу. Мы оправдывает это ограничение, ибо неграмотность, варварское воспитание, жестокие удовольствия и чувства хуже для нас, чем ограничение, необходимое для их исправления и подавления. Эта позиция опирается на наше понимание добра и зла, на наши, так сказать, моральные, религиозные, интеллектуальные, экономические и эстетические ценности, которые в свою очередь связаны с нашими представлениями о человеке и основных потребностях его природы, Другими словами, в решении таких проблем мы осознанно или неосознанно руководствуемся своим пониманием того, из чего складывается жизнь нормального человека в противоположность существованию миллевских “ограниченных и изуродованных”, “истощенных и бесплодных” натур. Протестуя против цензуры и законов, устанавливающих контроль над личным поведением, видя в них недопустимые нарушения свободы личности, мы исходим из того, что запрещаемые этими законами действия отражают фундаментальные потребности людей в хорошем (а фактически, в любом) обществе. Защищать подобные законы — значит считать, что данные потребности несущественны или что не существует иного способа их удовлетворения, как путем отказа от других, высших ценностей, выражающих более глубокие потребности, чем индивидуальная свобода. Считается, что используемый здесь критерий оценки ценностей имеет не субъективный, а, якобы, объективный — эмпирический или априорный — статус.
Определяя, в какой мере человек или народ может пользоваться свободой при выборе образа жизни, следует учитывать многие другие ценности, из которых наиболее известные, видимо, — равенство, справедливость, счастье, безопасность и общественный порядок. Стало быть, свобода не может быть неограниченной. Как справедливо напоминает нам Р. X. Тони, свобода сильных, какой бы ни была их сила — физической или экономической, должна быть ограничена. Содержащееся в этой максиме требование уважения — это не следствие, вытекающее из некоторого априорного правила, гласящего, например, что уважение к свободе одного человека логически влечет за собой уважение к свободе других людей; это требование обусловлено тем, что уважение к принципам справедливости и чувство стыда за вопиющее неравенство среди людей столь же существенны для человека, как и желание свободы. Тот факт, что мы не можем иметь все, — это не случайная, а необходимая истина. Когда Берк напоминает о постоянной необходимости возмещать, примирять и уравновешивать; когда Милль ссылается на “новые эксперименты в жизни” с их неизбежными ошибками; когда мы осознаем принципиальную невозможность получить четкие и определенные ответы не только на практике, но и в теории с ее идеальным миром совершенно добрых и рациональных людей и абсолютно ясных идей, это может вызвать раздражение у тех, кто ищет окончательных решений и единых, всеобъемлющих и вечных систем. Но именно этот вывод неизбежен для тех, кто вместе с Кантом хорошо усвоил ту истину, что из искривленного ствола человечества никогда не было изготовлено ни одной прямой вещи.
Излишне напоминать, что монизм и вера в единый критерий всегда были источником глубокого интеллектуального и эмоционального удовлетворения. Неважно, выводится ли критерий оценки из того, как видится будущее совершенное состояние философам восемнадцатого столетия и их технократическим последователям в наши дни, или он коренится в прошлом — /a terre et les morts, — как полагают немецкие историцисты, французские теократы и неоконсерваторы в англоязычных странах, но он обязательно, в силу своей негибкости, натолкнется на некоторый непредвиденный ход человеческой истории, который не будет с ним согласовываться. И тогда этот критерий можно будет использовать для оправдания прокрустовых жестокостей — вивисекции реально существующих человеческих обществ в соответствии с установленным образцом, который диктуется нашими, подверженными ошибкам представлениями о прошлом или будущем, а они, как известно, во многом, если не полностью, — плод нашего воображения. Стремясь сохранять абсолютные категории и идеалы ценой человеческих жизней, мы в равной мере подрываем принципы, выработанные наукой и выкованные историей; в наши дни приверженцев такой позиции можно встретить и среди левых, и среди правых, но она неприемлема для тех, кто уважает факты.
Для меня плюрализм с его требованием определенной доли “негативной” свободы — более истинный и более человечный идеал, чем цепи тех, кто пытается найти в великих авторитарных и подчиненных строгой дисциплине обществах идеал “позитивного” самоосуществления для классов, народов и всего человечества. Он более истинен хотя бы потому, что признает разнообразие человеческих цепей, многие из которых несоизмеримы друг с другом и находятся в вечном соперничестве. Допуская, что все ценности можно ранжировать по одной шкале, мы опровергаем, на мой взгляд, наше представление о людях как свободных агентах действия и видим в моральном решении действие, которое, в принципе, можно выполнить с помощью логарифмической линейки. Утверждать, что в высшем, всеохватывающем и тем не менее достижимом синтезе долг есть интерес, а индивидуальная свобода есть чистая демократия или авторитарное государство, — значит скрывать под метафизическим покровом самообман или сознательное лицемерие. Плюрализм более человечен, ибо не отнимает у людей (как это делают создатели систем) ради далекого и внутренне противоречивого идеала многое из того, что они считают абсолютно необходимым для своей жизни, будучи существами, способными изменяться самым непредсказуемым образом 14. В конечном счете люди делают свой выбор между высшими ценностями так, как они могут, ибо фундаментальные категории и принципы морали определяют их жизнь и мышление и составляют — по крайней мере, в долгой пространственно-временной перспективе — часть их бытия, мышления и личностной индивидуальности — всего того, что делает их людьми.
Быть может, идеал свободного выбора целей, не претендующих на вечность, и связанный с ним плюрализм ценностей — это лишь поздние плоды нашей угасающей капиталистической цивилизации: этот идеал не признавали примитивные общества древности, а у последующих поколений он, возможно, встретит любопытство и симпатию, но не найдет понимания. Быть может, это так, но отсюда, мне кажется, не следует никаких скептических выводов. Принципы не становятся менее священными, если нельзя гарантировать их вечного существования. В действительности, желание подкрепить свою веру в то, что в некотором объективном царстве наши ценности вечны и непоколебимы, говорит лишь о тоске по детству с его определенностью и по абсолютным ценностям нашего первобытного прошлого. “Осознавать относительную истинность своих убеждений, — говорил замечательный писатель нашего времени, — и все же непоколебимо их держаться — вот что отличает цивилизованного человека от дикаря”. Возможно, требовать большего — глубокая и неустранимая метафизическая потребность, но позволять ей направлять наши действия, — симптом не менее глубокой, но куда более опасной нравственной и политической незрелости.
____________
1 Berlin Isaiah. Two Concepts of Liberty (в сокращении) // Berlin I. Four Essays on Liberty. London, Oxford Univ. Press, 1969, p. 121—134, 162—172.
2 Здесь, конечно же, не подразумевается истинность обратного.
3 Гельвеций сформулировал это очень четко: “Свободный человек — это человек, который не закован в кандалы, не заключен в тюрьме, не запуган, как раб, страхом наказания… (Б)ыло бы нелепостью назвать несвободой то, что мы не способны полететь под облака, как орел, жить под водой, как кит…” (Гельвеций К. А. Соч. в 2-х т. Т.1, М.: Мысль, 1973, с.175).
4 Марксистская концепция общественных законов, безусловно, самый известный вариант этой теории, хотя эта теория, как важная составная часть, входит как в некоторые христианские и утилитаристские, так и во все социалистические доктрины.
5 “Свободный человек, — говорил Гоббс, — тот, кому ничто не препятствует делать желаемое”. (Гоббс Т. Соч. в 2-х т. Т.2, М.: Мысль, 1991, с. 163). Закон — это всегда “узы”, даже если он защищает нас от цепей, более тяжелых, чем цепи закона, как то: более репрессивный закон или обычай, произвол деспота или хаос. Бентам говорит то же самое.
6 Это лишний раз свидетельствует о склонности всех, за небольшим исключением, мыслителей считать вещи, относимые ими к благу, внутренне связанными или, по крайней мере, совместимыми друг с другом. История мысли, как и история народов, изобилует примерами, когда противоречивые или, по крайней мере, несоизмеримые части искусственным образом объединялись в деспотическую систему и удерживались вместе только благодаря страху перед некоторым общим врагом. Когда же со временем этот страх проходил, между союзниками сразу вспыхивали противоречия, разрушающие систему, иногда к великой пользе всего человечества.
7 Плодотворное рассмотрение этой темы вы найдете в книге: Villey М. “Lemons d‘histoire de la philosophic du droit, Paris: Dalioz, 1957, где прослеживается развитие понятия личных прав от Оккама.
8 Христианская (как, впрочем, и иудейская, и мусульманская) вера в абсолютный авторитет божественных и природных законов и в равенство всех людей перед лицом Господа очень сильно отличается от веры в свободу жить по своему собственному усмотрению.
9 На самом деле, можно оспорить то, что в Пруссии при Фридрихе Великом и в Австрии при Иосифе Втором люди, наделенные богатым воображением, самобытностью и творческим гением, равно как и разнообразные меньшинства подвергались меньшим гонениям и ощущали на себе менее тяжелый гнет законов и обычаев, чем во многих более ранних и поздних демократиях.
10 В каждом конкретном случае бывает очень трудно оценить степень “негативной свободы”. На первый взгляд может показаться, что для нее важна лишь возможность выбора между, по крайней мере, двумя альтернативами. Однако не всегда, выбирая, человек располагает одинаковой свободой или вообще обладает свободой. Если в тоталитарном государстве я предаю друга под угрозой пытки или даже из страха потерять работу, то я могу с полным основанием утверждать, что я не действую свободно. Тем не менее я, конечно же, делаю свой выбор и мог бы, по крайней мере, теоретически выбрать смерть, пытку или тюрьму. Простое наличие альтернатив, следовательно, еще не достаточное условие, чтобы мой поступок был свободным в обычном понимании этого слова (хотя он может быть добровольным). На мой взгляд, степень моей свободы зависит от того, а) сколько возможностей открывается передо мной (хотя метод их подсчета неизбежно опирается на то, как мы оцениваем ситуацию и каких взглядов придерживаемся. Возможные линии поведения отнюдь не столь дискретны, как яблоки, пересчитать которые не составляет большого труда); б) насколько легко или трудно осуществить каждую из этих возможностей; в) насколько важны эти возможности, с точки зрения моих жизненных планов, моего характера и обстоятельств, в которых я нахожусь; г) в какой мере сознательные действия других людей могут воспрепятствовать осуществлению этих возможностей; д) какую ценность приписывает этим разнообразным возможностям не только сам человек, но и общее мнение сообщества, в котором он живет. Все эти параметры следует “проинтегрировать”, а получающийся в результате вывод всегда с неизбежностью будет неточным и небесспорным. Вполне возможно, что существует много несоизмеримых видов и степеней свободы, которые нельзя расположить на какой-то одной шкале. Более того, если мы рассматриваем свободу общества, то мы сталкиваемся с такими (логически абсурдными) вопросами как “Увеличивает ли социальное устройство Х свободу г-на А в большей мере, чем свободу господ Б, С и Д, вместе взятых?” Те же самые трудности возникают и при использовании утилитаристского критерия. Тем не менее, если не требовать точности измерения, то у нас есть достаточно надежные основания утверждать, что средний подданный короля Швеции в целом намного свободней среднего гражданина Испании или Албании. Образы жизни нужно сравнивать между собой как некие целостности, хотя очень трудно, если вообще возможно, обосновать метод проведения такого сравнения и доказать истинность полученного вывода. Однако нечеткость понятий и множественность используемых критериев составляет отличительную особенность самого предмета исследования, а не является результатом наших несовершенных метопов измерения и нашей неспособности к точному мышлению.
11 “Идеал подлинной свободы — это максимальная возможность для всех членов человеческого общества достичь наилучшего для себя”, — говорил Т. X. Грин в 1881 году. Если оставить в стороне тот факт, что здесь смешиваются понятия свободы и равенства, то эта мысль означает, что когда человек выбирает сиюминутное удовольствие и тем самым отказывается от наилучшего блага для своего “я” (для какого “я”?), он осуществляет неподлинную свободу. Будучи лишенным ее, он не потерял бы ничего важного. Грин был настоящим либералом, но многие тираны могли бы воспользоваться его формулой для оправдания наихудших репрессивных мер.
12 В Великобритании такая законная власть конституционно закреплена за полновластным сувереном — королем, восседающим в Парламенте. Относительно свободный характер этой страны объясняется тем, что действия этого теоретически всемогущего существа ограничены обычаем и общественным мнением. Очевидно, что значение имеет не характер ограничений — правовой, моральный или конституционный, а их эффективность.
13 “Согласно Кондорсэ, из чьего “Эскиза” процитированы эти слова, задача социальной науки состоит в том, чтобы показать, “какими узами природа неразрывно связала прогресс просвещения с прогрессом свободы, добродетели и уважения к естественным правам человека; каким образом эти единственные реальные блага, так часто разобщенные, что их считают даже несовместимыми, должны, напротив, сделаться нераздельными. Это будет тогда, когда просвещение достигнет определенного предела одновременно у значительного числа наций”. И затем он продолжает: “(Л)юди сохраняют заблуждения своего детства, своей родины, своего века еще долгое время после усвоения всех истин, необходимых для разрушения этих заблуждений”. {Кондорсэ Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936, с. 12, 13). Можно усмотреть иронию в том, что вера Кондорсэ в необходимость и возможность объединения всех благ и есть именно тот вид заблуждения, который он так хорошо описал.
14 По-моему, об этом хорошо сказал Бентам: “Индивидуальные интересы — это единственные реальные интересы … можно ли это понять так, что некоторые люди настолько глупы, что … предпочитают человека, которого нет, тому, который есть; терзают живущих под предлогом содействия счастью тех, кто еще не родился и, может быть, никогда не родится?”. Это один из тех редких случаев, когда Берк согласен с Бентамом. Этот отрывок выражает суть эмпирического понимания политики в противоположность метафизическому.
И. Берлин. Две концепции свободы // Современный либерализм. М., 1998. С. 19-43.